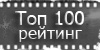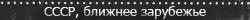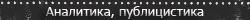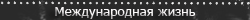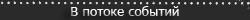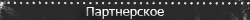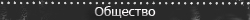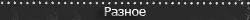Андрей Грязев: Искусство сегодня обязано быть политическим
 Зачем профессиональный спортсмен переквалифицировался в документалисты? По итогам первого документального фестиваля «Фейс.док» (на странице «Новой газеты» в «Фейсбуке») прошло голосование, в результате которого больше всего голосов набрал фильм «День шахтера» Андрея Грязева. Его дилогия «Саня и Воробей» и «День шахтера» уже собрала урожай наград, в том числе главный приз «Артдокфеста», премию «Лавр». «Саня и Воробей» — это про жизнь гастарбайтеров на щебеночном заводе. «День шахтера» — продолжение истории бесправных рабов. Саня уже дома в Туле с женой-толстухой и ее братом-наркоманом Витьком, недавно вышедшим из тюрьмы. Живут в поселке, где когда-то работала шахта. От прошлого благополучия остался только День шахтера: речи начальства в микрофон, танцы с водкой и мороженым.
В недавнем прошлом Андрей Грязев — профессиональный танцор на льду, участник крупнейших спортивных соревнований…
Начнем с главного: зачем вам документальное кино? Для формулирования внутренней позиции. Моему ребенку 8 месяцев. Он подрастет и спросит: «Пап, что было, когда я родился?» Я могу сказать ребенку: «Иди, посмотри в интернете». Но там путаница и вранье. А папе он поверит. «Док» обязан фиксировать время…
Так какое оно — время?
Тревожное. Ощущение, что вот-вот произойдут перемены. Пока стоял в очереди в Сбербанке, бабушки на разные лады твердили: «Будет переворот». Открытие «Дня шахтера» не в том, что кто-то плохо живет и виновато в этом правительство или они сами. Фильм про то, что опуститься на дно проще простого. Олигарх ты или менеджер «Газпрома», тебя выбросят на обочину в два счета. Свою версию подобного сценария снял Лозница в «Счастье моем».
Ну да, вы — «нахлебники» западных фестивалей, снимаете черное кино, выносите сор из избы.
Для чего? Чтобы получать призы? Ради денег? Тут я спрашиваю: «Каких?» Я вложил в кино все свое: деньги, время, нервы. Где же вы взяли столько денег?
Сколько? Стоимость «Сани и Воробья» — это камера, пленка и проездной на метро. Вы же мечтали после Высших курсов снимать игровое кино.
На курсах я учился у Герасимова и Добровольского. Один — режиссер игрового кино, другой — документального. Но картины нам показывали в основном игровые. Из «дока» посмотрел всего Расторгуева, Костомарова… плюс Франк. Понял направление. Мне стало интересно: как человек внедряется в чужую жизнь? Сидя в зрительном зале, на себя примерил — нет, никогда я так не смогу. Я застенчивый. Как принять в себя другую жизнь?
Необходимо «совместное проживание»?
Ты имеешь собственную судьбу и вместе с тем проживаешь жизнь своих героев. Это круто. Многие существуют в клетке своей единственной конторской жизни. Без того кислорода, когда чувствуешь: все можешь. Подобное я ощутил, когда покончил с фигурным катанием …
Ваша спортивная карьера была удачной?
У нас была сильнейшая школа. Меня с сербской партнершей — в тот момент я выступал за Боснию и Герцеговину — тренировала Елена Чайковская. В Вене на чемпионате Европы мы попали в финал. Потом партнерша завершила спортивную карьеру. Я поотдыхал месяцев девять, ходил по музеям, выставкам. Но надо было решать, что делать. А что я умею? Кататься. И я пошел в Театр ледовых миниатюр Игоря Бобрина.
Что в театре более всего привлекало?
Нравилось ловить эмоции. Выходишь на лед, на тебя смотрят тысячи глаз. Это как наркотик. Голова отключается. Катаешься в состоянии эйфории. В кино пытаюсь поймать те же эмоции. Но сложно… А там зашкаливало, там заряжаешься от зрителя.
Зачем же вы взяли в руки камеру?
Работал у Бобрина, вечерами делать было нечего. Особенно на гастролях. Купил камеру, начал снимать. Снимал заливщиков, декораторов, прохожих… Потом пошел и закончил режиссуру монтажа в Институте телевидения. Мы с мамой думали: «Ну что, во ВГИК? Но откуда такие деньги?»
Потом мама умерла. Было ощущение черты. Сигнал приземляться на две ноги. Сойти с шатких коньков. Я подумал: «Хорошо бы в рекламу, снимать клипы. Один клип — 40 тысяч долларов. Вау!» Но надо подучиться. Пришел поступать на Высшие режиссерские курсы. Там куча народу, все про кино всё знают. На собеседовании Квирикадзе, Меньшов, Герасимов. Спрашивают: «А этот фильм смотрел, а такого режиссера знаешь»? Другой мир. Я пытался все перевести в шутку. Кино до этого, если честно, не очень любил и смотрел мало. Квирикадзе берет анкету, читает: «Человек, на вас повлиявший». Я написал: «Адольф Гитлер». «Вы что?» — «А разве он не повлиял? Все мы оказались в той или иной степени зацепленными, вся наша история». Они были так шокированы, что о кино больше не спрашивали.
Поступили на бесплатное?
Нет, отдал все заработанное за пять лет. За все время обучения пропустил только два дня. Смотрел все фильмы. Потихоньку голова стала сворачиваться. Лучше всех этому способствовал Добровольский. Приносишь задание — вроде шедевр. Тебе говорят: «Не то. Ты снимал человека, а снял не человека — лишь то, что он тебе показал, нарисовал себя». Вначале был внутренний протест. Но ты перебарываешь себя, наступаешь на горло самомнению, учишься прислушиваться к внутреннему голосу человека, а не к тому, что он говорит. А чтобы снять «заслонки», главное — выбрать персонаж. Не каждого человека сможешь раскрыть.
Как же вы нашли потерянного верзилу Саню и дурковатого наивного Воробья?
Все пошло от места. Территория цементного завода, части которого распроданы. Щебеночный перевал — в самом конце. Трубы на солнце дымили, что-то окружали, как купол. Всегда хочется посмотреть: что там, за забором.
И заглянули за забор?
Приехал еще раз, нашел прораба: «Можно здесь поснимать, здесь так красиво?» — «Чего красивого?» — «Видите, здание Сбербанка сверкает — там одна жизнь, тут вы копошитесь». — «Да, я тоже так думаю». Они думающие люди. Все понимают про два мира, что они — как крысы среди машин. Потом пошел к начальству. Восемь часов разговаривали, хотя согласились они уже через полчаса. И три месяца мне никто не мешал.
Камера не мешала контакту?
Первые пару дней смотрели: «Ты что снимаешь?» Потом перестали, после того как я камеру откладывал и помогал им. Жена удивлялась, откуда я такой грязный прихожу. Возник контакт. Узбеки приглашали меня на плов. Ходил с камерой в каждую бытовку. Потихоньку снимал всех — 16 человек. Разбирался: кто есть кто. Потом меня Герасимов спрашивает: «Ты где пропадаешь с камерой? Покажи». Чего-то я намонтировал на два часа. Не знал, что такое темпоритм. На некоторых эпизодах они засыпали, на других — просыпались. Добровольский говорит: «А ты обратил внимание на этих двоих?» — «Да, я за ними слежу». — «А на фига ты всех остальных снимаешь?» И оставшиеся полтора месяца я уже снимал осознанно только Саню и Воробья.
Саня приехал подработать. А Воробей? Ощущение, что он не в себе.
Он слегка заикается, но он нормальный. Он — детдомовский, у него две сестры остались в Комсомольске-на-Амуре. У него в Комсомольске-на-Амуре была сберкнижка с деньгами, полученными после детдома. Он снял оттуда деньги, потратил их и поехал в Москву, где собирался сказать, что сберкнижку потерял. Думал: если сделают дубликат, там будут те же самые деньги. Оказалось, что в филиале не только деньги нельзя получить, но и дубликат сделать.
В финале Саня уезжает в Тулу. А ты с Воробьем, так и не повзрослевшим ребенком, отправляешься на каток. Что же с ним было за титром «конец»?
Он все-таки получил за работу какие-то деньги. Выкупил паспорт из залога. Купил телефон, одежду, билет на поезд в Комсомольск. Потратил все. Я ему накупил шоколада, «Доширака» в дорогу. Он звонил мне каждый день из поезда: «Я еду». Новый год прошел. Рождество. А он: «Я еду». У меня уже полжизни пролетело. Потом ночью звонит: «Я на вокзале. У меня ни копейки». Шел пешком через весь город. Не было ли идеи завершить трилогию, снять фильм про Воробья?
Я думал об этом. Он звонит мне. С сестрой поругался, не хочет с ней жить. Хочет в Москву. Спрашиваю: «Что ты в этой Москве забыл?» — «А кому я нужен в Комсомольске? Работы нет. Я в Москве больше заработаю нищенством, чем на заводе дома. Да и не берут меня на работу». У него есть пособие по инвалидности. Подрабатывает, коров пасет. Копит по рублю, чтобы приехать в Москву. Я говорю: «Хорошо, ты приехал на вокзал — куда пойдешь?»
А к вам он не придет?
Они никогда не просили у меня денег. Завязались отношения другого уровня, не построенные на потребительском обмене: я вам денег, вы пляшите перед камерой. Отношения не фальшивые, глубокие.
Ваш метод работы — погружение в жизнь другого. Это не опасно?
Это условие работы — способность выстроить отношения с героем, кто бы он ни был: наркоман, убийца… Вы имеете в виду Витька из «Дня шахтера»? Его вы тоже не боялись?
Если боишься, тогда какого хрена приперся с камерой? Там ты растворяешься в этой жизни. Ты не пришлый, приехавший на пять минут и отчаливший в свою благополучную жизнь. Ты должен стать своим, будто жил с ними всегда, видел, как вчера похоронили их родственника…
Отбирая у них сокровенные признания, вы готовы своим личным с ними делиться?
Иногда не нужно все проговаривать, если тебя принимают, ощущают. Все построено на эмоциях. Приходя в их жизнь, ты встаешь, как недостающий пазл на пустое место. Ты уезжаешь, и они чувствуют внутренний дискомфорт. Оказывается, мое присутствие нужно им. Саня в конце первого фильма сказал: «Не знаю, что бы мы без тебя делали». У них возникло чувство защищенности. В Москве есть человек, знающий об их существовании.
Документалисты признаются, что им приходится не только вторгаться в жизнь людей, но и манипулировать героями.
Да, я слышал, что Дворцевой ушел из неигрового кино, почувствовав, что перешагивает кадр, влияет на жизнь других. Я над этим размышлял и понял, что для меня кино как раз там и начинается, когда я «перешагиваю»… Не называйте это манипуляцей. Я не прошу героя: «Возьми рулон обоев и клей…» Я не подначиваю….
Даже если документалист не провоцирует, он воздействует, хотя бы своим присутствием.
Это долгий процесс: сделать себя пустым ведром, которое они наполнят плевками, объедками, молоком, дерьмом. И ты все это аккуратно «несешь» на монтаж. Не расплескав на своих близких. Приезжая из Тулы, я дня три выходил из депрессии, привыкая к нормальной жизни. Можно, конечно, поставить кучу камер слежения — и снять взрыв в «Домодедове». Но это не будет авторским высказыванием. Я должен присутствовать.
Как же вы снимали сцену соития?
Камера писала телевизор, шел КВН. Пришел Витек с женщиной. В комнате стоял штатив, перегораживая проход. «Ой, а что это стоит?» — «Это камера, не обращай внимания, — поясняет Витек, — я уже привык». И они аккуратно, чтобы не задеть камеру, перешагнув через штатив, садятся разговаривать. Я пришел из другой комнаты, присел рядом на тумбочку. Они меня вроде видят, но я для них сделался предметом, слился с камерой. Я их снимал и думал: «Зачем мне это?» То же и с наркотиками… Они несколько раз кололись. Но когда я сомневался, снимать или нет, возникал образ Андрея Михайловича Добровольского, который говорил: «Лучше сними и думай на монтаже: нужно тебе это или нет, чем не снять и кусать потом локти». Снимая эти фильмы, я много думал про этих людей. Я представлял, кем бы мои герои могли быть в животном мире. Витек, хоть и рассказывал про четыре убийства, по сути, был для меня ягненком. Но звериная натура, подкорковая природа проступает в глазах отчетливо в двух моментах: когда человек острым ножом режет сырое мясо и в миг оргазма. У Витька «проступили» волчьи глаза.
Поэтому вы и оставили две шокирующие сцены в фильме.
Конечно. Сцена с сексом — ключевой момент, расставляющий все по местам. Есть два человека. Саня и Витек. Живут при одной женщине. Саня ей муж, Витек — брат. Оба делают ремонт, ищут работу. Но Саня уходит «вверх» из-за того, что любовь в его жизни присутствует. Витек опускается в черноту, потому что вместо любви у него этот звериный секс. Кажется, потом он умер…
Не от наркотиков. У него была опухоль мозга, во время съемок никто об этом не знал.
Автор может манипулировать героями и с помощью художественных средств. Вы показываете, как колесо вагонетки наезжает на щебенку, давит ее в порошок. И потом я смотрю на ваших героев через призму этого кадра. Это их давит и мелет в крошку.
Откуда этот кадр? Ты снимаешь исходя из собственных фантазий, порой не отдавая себе отчета зачем. Увидел гору щебенки, уходящую в небо. Красиво. Потом на монтаже можно этому кадру придать любой смысл. Из этих стыков у зрителей рождаются свои мысли. Сила «Дня шахтера» — в сопряжении эпизодов. Про сцену с наркотиками мне говорят: «Чего они так долго колются?» Но эпизод нужен для того, чтобы смонтировать глаза его наркоманские после «прихода» с помехами телевизора. У одного героя наркотик героин, у другого — телевизор. Идет замещение настоящей жизни. Наше документальное кино бежит от политики. Ваши психологические кинонаблюдения имеют социальный подтекст. Нет ли желания снять политический фильм?
Фиксирую реальную жизнь, но через призму моих героев. Отраженную в их роговице. Не могу снимать впрямую. То, что делаю сейчас, мне кажется, это очень круто. Потому что любое искусство сегодня, если хочет называться искусством, обязано быть политическим. Ты не можешь называться современным художником, если снимаешь про профессоров, про цветочки.
Стоп. Про профессоров можно снять самое злободневное кино. И в роговице профессора отражается реальность…
Но ведь на экране этого нет. Когда я показал «День шахтера» моему преподавателю Евгению Марголиту, он плакал. После фильма сказал: «Я ждал подобное кино». — «Какое?» — «Представь, если человек родился в 80-х годах, формирование его личности приходится на начало 1990-х, когда все рушится и переворачивается. И никто ничего не объясняет. Все это жжет. Он не понимает почему, но протест в нем зреет. На Манежке же были не только школьники, но ребята 17—18-летние, рожденные в начале 1990-х». Так что протестное кино еще впереди.
Расскажете, что снимаете?
Это секрет. Можете подумать, что красуюсь, набиваю цену. На самом деле это несет действительную опасность. Сегодня любое открытое высказывание может интерпретироваться как призыв…
Вы же не будете сеять национальную рознь вашим фильмом.
Если разбираться, уже и в первых двух фильмах есть «призыв». Три дня назад начал просматривать снятый материал. Около ста часов. За месяц посмотрю, потом буду собирать. Это современные герои.
Неужели вы их обнаружили?
Одно время героем был «Брат-2», потом Саша Белый из «Бригады». Сейчас место героя вакантно. Помню, в детском саду все рисовали Ленина. Он же вождь, и я рисовал его с перьями. Это навязывание героя, от которого обязательно пойдет отторжение. Персонажи моего будущего фильма — герои. Когда смотрю материал, оживаю, там эмоция шарашит. Прокручиваю эпизод, ставлю на паузу и бегаю по квартире, пока не успокоюсь.
Вы все же поймали схожую эмоцию с той, когда рев трибун и вы один на льду?
Близко. Но есть разница: ты волен эти эмоции длить, удваивать… Источник |